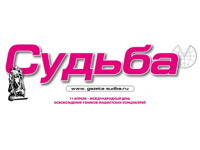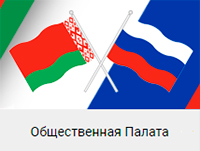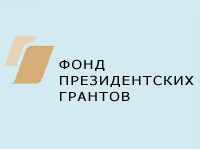Едва отворив дверь, чтобы выйти на порог, я был остановлен туманом. Сперва он наступил мне на носки сапог, мешая пройти, и чуть погодя, с шёпотом: "Догадайся, кто!" прижал скользкую ладонь к моему лицу. От неожиданности я чуть не упал, а после, по забытой в детстве привычке, оборотился за спину и по сторонам, но никого не увидал, не застал ни рядом, ни подле.
Туман был навроде мучного или овсяного киселю. Белесый, местами погуще, а кое-где казалось, что вот-вот, ещё совсем немного, и его пелена прорвётся, даст, наконец, солнечному лучу возможность докоснуться до земли. Увы, то был обман, фальша, неправда. Не отыскав, на кого рассердиться или на что отвлечься, приходилось упрекать во всех существующих невзгодах и винить в них лишь себя.
Рассматривая преграду тумана, как ничто, нечто, спешно отыскивал я опоры в сердце, но не находилось там ничего. Оказалось, что всякое, что доселе считал я приметой себя, было лишь ответом на тревогу окружающего мира, на его посыл разбередить меня.
В растерянности, ровно в слезах, я стоял на пороге дома, желая только одного - отыскать точку опоры где-то на дне сердца, в самом нутре, а значит и себя самого.
Туман же неистовствовал. Моя нерасторопность и недогадливость утомляла его. О том, что в мире теперь есть кто-то ещё, помимо меня, я догадывался по несмелому, жалобному оклику ястреба из поднебесья, столь мутного и унылого в этот час, что поневоле хотелось расплакаться в угоду недавнему затяжному дождю, и дабы потрафить туману, что расстарался, укутав округу ещё более плотно, не оставив ни единого просвета.
Я не мог двинуться с места, а ястреб всё звал и звал, взывал к состраданию, уязвлял по невыносимой, подчас, мольбе, - расстаться с частью собственной души ему в угоду. Ведь нет иначе пользы от сопереживания, не оно это вовсе, в противном-то случае. И задумался я, так глубоко, как никогда раньше.
Добившись своего, обратив меня к себе, туман стал отступать. Расступаясь, он понемногу давал дорогу взгляду вовне. Первыми обнаружили себя деревья. Они показались неясным, затёртым не до конца карандашным рисунком, наброском, начертанным неуверенной, но искусной рукой. И в тот же час под ногами хмелел от собственной важности хмель, ибо кроме его полупрозрачных лепестков цвета топлёного в печи молока, на снегу не было видно больше ничего.
- Что ж вы за люди такие, русские!? Страдание, возведённое в национальную идею? Это для вас - правда? Вы все нормальны?!
- Мы-то про сострадание, если что, но в общем... Неумение страдать выдаёт отсутствие в человеке человеческого. Не ради самой муки, само собой, да и как не найтись причины для неё? Она здесь, рядом, и будет заметна вскоре. Вот, погоди, только рассеется туман...