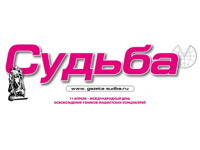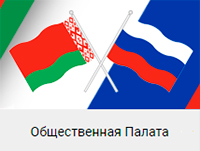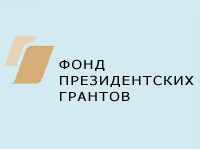Глядя на мутное серебристое облачко спелой травы с облупившейся позолотой рассвета, я неизменно ловлю себя на том, как губы расходятся на стороны, воскрешая на лице некое подобие улыбки. Утеря привычки радоваться без видимого повода давно перестала меня пугать, а вот её нежданное обретение наводит на мысль о скоротечности бытия, с которым невозможно смириться. И если рассуждений про то можно избежать, хотя бы про себя, то как перестать дёргать из клубка детский воспоминаний разноцветные нити, которые каждый раз всё короче и ярче. Хорошо если есть ещё у кого спросить, как оно было на самом деле, а уж коли нет...
- Поднимайся-ка, сынок...
- Папа?!
- Ну, чего ты так на меня уставился! - Смеётся отец. - Сам же умолял вчера взять тебя с собою. Дров натаскал, чтобы матери хватило, пока нас не будет, в дальнюю булочную бегал, червяков накопал целую банку, да ещё пообещал, что сразу встанешь, как только трону тебя за плечо. Что, передумал? Не пойдёшь?
- Ой... - Испугался и заторопился я, - Нет-нет, папочка, сейчас, даже умываться не стану!
- Ну, умыться ты и на речке сможешь, - разрешил отец, а зубы вычистить, это надо, без того нельзя. Зубы, они, знаешь, пригодятся ещё.
Отец не позволил зажигать фонарик, и нагруженные рыболовными снастями, мы шли в жидкой предрассветной беззвёздной тьме почти что на ощупь.
- Ты не глазами смотри, - советовал отец, когда я спотыкался в очередной раз, - глаза, они, бывает, не помощники.
- Как это? - Не верил я. - Руками перед собой хлопать?
- Зачем руками? Учись чувствовать ногами, где идёшь. Коли езжена-хожена дорожка, она сама ведёт, не промахнёшься. Чуть в сторону - уже бугорок, туда не ступай.
- А в лесу?
- Тут уж понемногу щупай, куда ногу поставить, да на стороны полегоньку кланяйся.
- Это ещё зачем? - Удивлялся я.
- Так дерево, оно не сразу, - раз тебе, и ниоткуда-не отсюда, дерево! Прежде веток воздух как бы гуще делается, а чем ближе к стволу, напротив - легче, словно в ямку попадаешь.
Отец говорил, говорил и я ловил каждое его слово. Он никогда не рассказывал, как воевал, и то, чем теперь делился со мной, было из той, фронтовой его жизни, о которой я боялся расспросить. Не от того, что опасался отца, но по другой, неведомой мне причине, которую больше понимаешь сердцем, чем знаешь на неё ответ.
Мы с сестрой никогда не видели отца без заправленной под ремень гимнастёрки, переодевался он за ширмой, куда нам не дозволялось заходить, и только по лёгкой гримасе досады, которая нередко пробегала по его лицу, понимали, что каждое движение достаётся ему с большим трудом.
Намного позже, едва мы с сестрой разъехались учиться, родители, хотя и не разошлись, стали жить раздельно, а я навещал их в очередь или если была в том нужда. Каждый раз они расспрашивали друг о друге, как бы невзначай, и кажется сожалели о том, что не вместе, но отчего-то с этим было уж ничего нельзя поделать.
Именно в ту пору, переодеваясь, отец перестал прятаться от меня. Разглядев стянувшие кожу рубцы ожогов, я понял, что он не смущался показаться перед нами без одежды, но просто берёг нас, своих детей. От сострадания, от жалости к нему.
- Страшный я? - Спросил тогда отец, и я впервые назвал его так, как редко решался до того:
- Нет, папа, ты у меня самый-самый!
- Самый красивый? - Усмехнулся он.
- Самый лучший.
...Глядя на то, как гребёнка солнечных лучей вычёсывает клочья тумана из травы, я вспоминаю, как мы с отцом расположились на низком берегу речки, и, вместо того, чтобы устроиться поодаль, не мешая друг другу, как это делают заправские рыболовы, сели рядом, поджидая рассвет. Мы глядели на солнце, которое прибирало серое одеяло тумана с влажной постели реки, и на играющих рыб, что, радуясь жизни, прорывали спинными плавниками шёлковую прозрачную ткань воды. Не замочив поплавков, мы молча просидели до самого заката. Нам было хорошо и так.