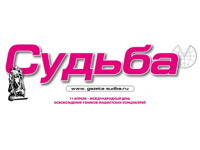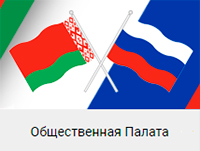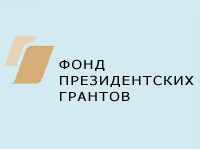Стены Кремля простираются намного дальше Красной площади. Они везде, где помнят о тех, кто сражался за страну и чтят их не словом, но делом...
Улица моего детства была не слишком широка. Толстая корка несвежего асфальта с крупными кусками гранита, блестела на закате каждого дня, словно лунная дорожка. Высаженные по краям тополя - мои ровесники, росли быстро, и вскоре я уже не мог дотянуться, чтобы погладить их по макушке. Над верной дорогой улицы, расправляя все её складки, усердно трудилось солнце и разгладило однажды так, что мне оказалось легко оставить на ней отпечаток ладошки, а, заодно, и след подошвы стёртой, обтянувшей пальцы сандалии. Тогда мне казалось, что это на века.
Чуть позже, корни тополя, шутя, поддели дорожку снизу, растопырив на серой, выпачканной землёй пятерне корней, а мороз довершил дело, шлёпнув поверх звонкой ледяной палкой, от чего асфальт полопался и стал походить, скорее, на черепаший панцирь, нежели на путь куда-либо. Мои следы тоже растрескались и потеряли очертания, но бегалось по дорожке было всё ещё здорово, с сочным ощущением радости и жизни, без раздумий ни о ком, кроме ветра, который всегда отставал, да из зависти ставил подножки. Сбитые от того колени надо было непременно сильно сжимать, дабы остановить стыдные слёзы, и чтобы вышла заодно кровь. Та быстро застывала, превращаясь в коричневатую глазурь. И да, - от того-то у всех ребят на моей улице были шоколадные от ссадин коленки.
Улица моего детства, длиной всего в две трамвайные остановки, тянулась долго, от самого памятника Ленину напротив школы, на которую он строго указывал рукой, до уютного уголка сквера, огороженного пухлым, бело-лимонным оштукатуренным забором оплетённым кованой решёткой. Ряды скамей, ракушка эстрады, щербатый щит киноэкрана, колокольчик громкоговорителя среди ив, вишен, клёнов и елей, - ничего из ряда вон, обычная обстановка тех лет, "для поддержания культурного уровня рабочих, служащих, дошколят и домашних хозяек".
Пыль из помоста эстрады перед соседями, регулярно выбивали самодеятельные артисты ближайшего ДК, или самые настоящие, из городской филармонии. Шутками и громкими, нарочными хлопками ладоней друг об дружку приветствовали зрители гастролирующего по дворам усатого лектора, а иногда по вечерам "крутили кино",- документальное, о войне и наше, про нас, советских, про светлое будущее и понятное, честное настоящее.
После того, как за спинами прекращал стрекотать кинопроектор, люди не расходились. Они продолжали прерванные киносеансом разговоры, мужчины мечтали о рыбалке, женщины обсуждали всех и вся, а после, без уговора и дирижёра со стороны, принимались петь. По само собой заведённому некогда порядку, первой всегда была "про Алёшу". Пристально вглядываясь в горельеф памятника советскому воину-победителю на стене барака рядом со сквером, сердечно и певуче выводили они слова песни. Гармонист Кефир Кефирыч, прижав к инструменту щёку, играл и, по-обыкновению, плакал. Слёзы капали, задевая перламутровые кнопки клавиш, и от того вечер делался ещё душевнее.
В самом деле гармониста величали иначе - Василием Никифоровичем, но ученики школы, в которой он преподавал музыку, да и все соседи, звали его только так, даже в глаза. Он не обижался, а, встряхнув гривой волос, до плеч, улыбался во все стороны крупными лошадиными зубами, кланялся, и, вскинув выше гармонь, заметно прихрамывая, шёл дальше. Вольный вид Кефир Кефирыча оправдывался рваным рубцом шрама на шее. Учитель прятал его под кудрями, но хромоту скрыть не мог, и потому ходил вприпрыжку, всячески подчёркивая тяжесть инструмента. Я не помню, чтобы когда-либо встречал Кефир Кефирыча без гармони, казалось, он ложится спать и просыпается вместе с нею. Уловка учителя была очевидна, но ему, как бывшему фронтовику, легко прощались любые странности.
На улице моего детства было всегда шумно. По ней ходил, от двора к двору, обласканный всеми пёс, которого пришлый рабочий, латавший летом крыши, в шутку облил горячей смолой. Я помню, как мужики гнали шутника взашей, пеняя заодно тем, что он не воевал. После того случая, в моём сознании укрепилась уверенность в том, что каждый, кто прошёл войну, правильный человек, а тот, кто там не был, несёт на себе некое тавро ущербности, и для того, чтобы оспорить его, требуется немало усилий и поступков.
Наша улица шла под горку, памятник Ленину располагался, как и положено, немного наверху, а сквер пониже, поэтому было очень удобно бежать "в ту сторону", и труднее возвращаться. У каждого из наших ребят, в полном распоряжении, был велосипед или педальная машинка, или даже самокат, так что иногда, притомившись от беготни и войн, мы устраивали гонки. Незамысловатое "Кто быстрее!" требовало серьёзной подготовки. К примеру, у меня был замечательный трёхколёсный велосипед, и, чтобы привести его в порядок к соревнованию, в кожаной сумочке на раме имелась отвёртка с деревянной ручкой, ключик, чтобы подтянуть цепь и чистая ветошь. Состязались мы на полном серьёзе, крутили педали так, что рвались цепи, гнулись шестерни, отлетали прочь сидения и педали, но, едва заслышав рядом скрип деревянных колёс, всё ещё не прекращая пыхтеть, не сговариваясь, дружно переставали стараться. С лёгким сердцем мы давали себя обогнать человеку на деревянной доске с колёсиками, и очень радовались, когда, остановив свою повозку подле прислонившегося спиной к стене Алёши, он поднимал руки кверху и кричал победное "Ура!"
Дело в том, что на нашей улице жил дядя Петя. Высоким и красивым жена проводила его на войну, а после, спеленав, как маленького, принесла из госпиталя лишь верхнюю половину мужа. Дядя Петя работал у рынка, где точил ножи и ножницы, он очень любил нас, ребятишек, и шутил, угощая петушками на палочке: "Бери-ка петю от пол-Пети". Он ездил по улице на доске с приделанными к ней маленькими колёсами, и хотя, чтобы добраться до работы, ему нужно было перетащить себя через рельсы, мог добираться туда сам. Нашими стараниями, шпалы возле его дома были почти вровень с землёй, - мы с ребятами натаскали её туда однажды. Если не было работы, дядя Петя катался туда-сюда по улице, отталкиваясь руками, но, тем не менее, они были удивительно чисты и нежны, и нам очень нравилось пожимать их при встрече.
Я смутно помню имена и лица других, но сам дух улицы, населённой людьми, преисполненными уважения к жизни, как малый, сдобренный солью слёз, ломоть пышного каравая единого народа, мне не забыть никогда.
Улица моего детства. Из конца в конец - всего лишь две трамвайные остановки, шлаковые двухэтажные дома и неширокая дорожка вдоль домов.
- Ничего особенного, - скажете вы,- заурядное место, которых на земле тысячи. Но особенным мир делают люди, а не наоборот.